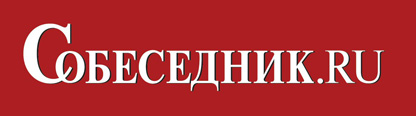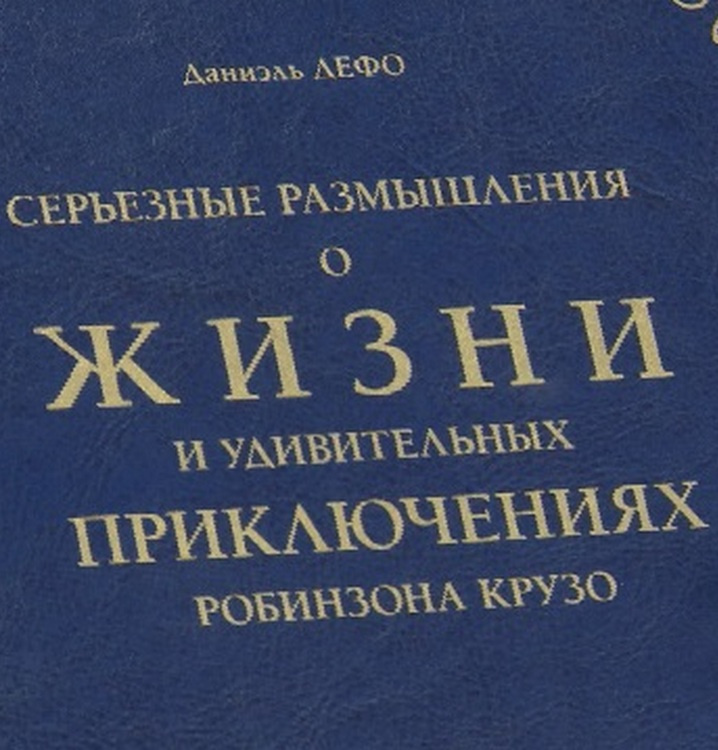Валерий Плотников: Я помог Собчаку вернуть Ленинграду настоящее имя
Фотохудожник от Бога, знает множество секретов о знаменитых героях своих фотографий

Среди работ фотохудожника Валерия Плотникова – портреты Лили Брик, Владимира Высоцкого, Аллы Пугачёвой, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и даже Микеланджело Антониони, который терпеть не мог фотографироваться. Но он не обо всех и не всё расскажет. У Валерия собственный кодекс принципов. Он требователен к словам – например упаси вас бог сказать ему слово «фотка»! Только «фотография».
Даты
1943 – родился 20 октября в Барнауле
1969 – окончил ВГИК
1976 – первая персональная выставка в Доме кино (Ленинград)
1977 – снялся в фильме Эфроса по повести Битова «Заповедник»
2013 – Почётный член Российской академии художеств
У Плотникова был псевдоним – Петербургский. Он его взял в 70-х, когда решил вернуть родному городу его настоящее имя. И вернул. С помощью Анатолия Собчака, с которым дружил.
– Эта идея возникла потому, что с детства я не любил, когда лгут, и сам воспитывался в убеждении, что лгать – это нехорошо, – объяснил Плотников.
– А кто вас воспитывал, кто ваши родители?
– Хотя я любил отца и понимаю, что и он меня любил, но он с нами не жил. Я бастард. Но у меня всё-таки фамилия отца, хотя в то время – 43-й год, война – детям в родильном доме фамилию давали, буквально глядя в потолок... Я родился в Барнауле, отец был, что называется, человек номенклатурный, директор завода, эвакуированного туда из блокады. Ну а мама была просто секретарём-машинисткой. И всю свою жизнь получала нижний порог зарплаты. Я, помню, читал в газетах постановления о повышении этой минимальной оплаты труда, и мне было важно, что мама теперь будет получать на 3 рубля больше. Совсем маленьким я мечтал о фигурке мотоциклиста – были такие железные, из двух половинок склёпанные. Он заводился ключом и долго-долго ехал по ровному полу. И вот мама наконец накопила, и мы пошли в магазин его покупать…
Серёжа все профукал
– А отец разве не помогал?
– Не знаю. У него была своя семья. Он из большевиков, женился на женщине старше его, и партия услала его на Кавказ – устанавливать там советскую власть. А когда вернулся, у него дома там уже сразу две дочери. Класс, да? Мои сводные сестры потом мной гордились, потому что я, бастард, из всех Плотниковых, так сказать, выбился в люди.
Отец изредка приходил в нашу квартиру на углу Невского и Малой Садовой. Эта квартирка была крохотной, 14-метровой частью бывшей квартиры моей бабушки – как я много лет спустя выяснил, княгини Шаховской. В остальные комнаты ещё до войны подселили рабочих и крестьян. Когда отец приходил, старался, чтобы никто из соседей его не увидел.
О его смерти я узнал из газеты. Так что по отцу я – из партийных, а по бабушке – из Шаховских. Бабушка очень отличалась от окружающих, у неё всегда была на голове шляпка, а руки были в кружевных перчатках. И из её дочерей и внуков я, незаконнорождённый, был ей самым близким по духу.
– Так вы больше Шаховской или Плотников?
– Всё-таки Плотников. Помню, как привёл всех в ужас однажды. Дело было после войны – голод, карточки, и я решил порадовать родню ужином. Высыпал в таз месячный запас крупы, макарон, соли и сахара, налил туда воды и давай мешать там мешалкой – я же видел, как взрослые делают. Сейчас невозможно себе представить ужас пришедших после работы мамы и тёти. Вся еда на месяц в воде! Но у меня была отмазка. Я, дитя ещё, чуть что шепелявил: «Я лашковый». И всё, и рука ни у кого не поднималась!
– Выживаемость у вас 10 из 10. А кто повлиял на ваш выбор пойти в художественную школу?
– Сам город. Через дорогу от нашего дома был Екатерининский сад, дальше Александринский театр, Вагановское училище, Театр комедии, Аничков дворец – вокруг меня была концентрация культуры. Место жительства много что решает. Мама меня отвела во дворец творчества на рисование, и моим преподавателем там был легендарный Соломон Давидович Левин.
Поскольку на фортепиано у нас не было ни денег, ни места, я ходил на класс баяна, а дома «играл» на нарисованной на бумаге клавиатуре. Соседей устраивало. Ну а в школу для одарённых детей при Академии художеств меня отправил муж моей тёти – дядя Коля Павленский, одесский гопник, который очень хотел, чтобы я выбился в люди. А Петя Павленский, который прибивал себя к Красной площади, – мой племянник.
– Даже здесь у вас всё не просто так!
– Абсолютно! – смеётся Валерий. – И наш класс в ЦХШ был уникальный. Мои одноклассники – Олег Григорьев, Миша Шемякин, Саша Пожигайло. А в 14 лет я познакомился с Лёвой Додиным, с Серёжей Соловьёвым. С такой компанией куда же деться?

По замыслу нашей компании я должен был стать великим оператором, а Серёжа – великим режиссёром. Мы должны были быть, как Козинцев и Москвин, Антониони и Ди Венанцо, Эйзенштейн и Тиссэ. Из-за Серёжи я поступил во ВГИК. Серёжа действительно должен был быть великим режиссёром, но он им не стал. Так сложилась жизнь. Он был, как Иоселиани, как Элем Климов, как Антониони. Но Серёжа всё профукал.
Ефремов, взрослый дядька, а такое несёт!
– Значит, Соловьёв не стал Антониони и поэтому вы не стали великим оператором?
– Видишь ли, когда я поступал во ВГИК, кинематограф был совсем не тем, что сейчас. Тогда Хуциев снимал «Мне двадцать лет», Андрей Тарковский снял «Андрея Рублёва», Андрей Смирнов – «Пядь земли». А когда я окончил ВГИК, я уже понимал, что и Серёже, и всем вообще придётся приспосабливаться и делать фильмы про господина Ульянова и НКВД. Я понял, что просто физически не смогу снимать про это.
Я и с Никитой отказался работать на фильме «Свой среди чужих», хотя уже и пробы сделал. Но потом, когда Никита вернулся с флота, сказал: «Знаешь, я, пожалуй, не смогу в этом участвовать». – «Почему?» – «Ну потому, что это будет фильм про ВЧК». «Но это будет истерн!» – говорил Никита и действительно снял истерн, где у «ковбоев» красные звёздочки во лбу и кожанки гэпэушников.

Не могу я понять Никиту Михалкова, который потом, став монархистом, так лажал монархию в «Сибирском цирюльнике», где мальчика-юнкера за ерундовый проступок заковали в кандалы и сослали. В общем, для меня это неприемлемо. Это не поза. Точно так же, как и то, что я не пил водку – ни служа на флоте, ни учась во ВГИКе.
– А водка-то чем была нехороша?
– Не нравилось мне. Эдик Володарский ворчал: «Плотников, выйди в коридор, от твоего вида водка скисает». И все хохочут. А на наши вечеринки отборные бойцы собирались – Катя Васильева, Динара Асанова, Эдик, Володя Акимов, Серёжа Соловьёв, Высоцкий иногда подваливал. На водку у нас, студентов-голодранцев, всегда было, а закусывали жареной картошкой. Изо дня в день огромная сковорода на всех.
В общем, меня участливо спрашивали: «Ты что, больной, что ли? Не больной? А что не пьёшь?» Отстали от меня, только когда я купил машину: наш человек, но он не может, потому что за рулём. Привычка не пить так со мной и осталась.
Помню, как Эдик Володарский в своё время приходил к нам домой, смотрел на бутылки в баре и говорил сдавленным от волнения голосом: «Это как же так-то, у тебя всё это стоит? Это же какая у тебя сила воли, гад!»
– Про партию и ВЧК вы снимать не хотели... А когда пришло понимание, что всё это вранье?
– Я помню этот момент. В советской школе все дела Ульянова или Джугашвили преподносились в ореоле непогрешимости. И я помню, нам на уроке рассказывали, как Владимир Ильич, сидя в тюрьме, написал Апрельские тезисы. А их же надо донести до партийных ячеек! И граждане коммунисты, зная, что к заключённым спокойно пускают родственников, назначили товарища Крупскую невестой товарища Ульянова. Она приходит: «Я невеста» – её пропускают, и обратно она под юбкой выносила эти Апрельские тезисы.
И я думал: «Но это же нечестно!» Благородные революционэры воспользовались представлением стражников о порядочности. Но весь наш класс, да и вся страна считали, как же классно и ловко большевики надули царское правительство. Обвели вокруг пальца. С этого всё и началось в нашей стране. Пышным цветом заколосилось.
– Вы думаете, все остальные этого не понимали?
– Помню, как Олег Ефремов, Миша Шатров и Саша Калягин ставили пьесу про Ульянова и Олег приговаривал: а вот если мы будем жить по-ленински… Я думал: Ефремов, взрослый дядька, а такое несёт. «Олег, – говорю ему, – у него руки по плечи в крови, он главарь всей этой банды, а ты мечтаешь о ленинской норме жизни».
Ужас в том, что они, чудесные люди, были искренни!
– А как вы сами с таким рентгеновским восприятием сумели стать знаменитым в то время?
– Я просто был слишком очевиден. В семьдесят втором году, когда я взял псевдоним Петербургский, товарищи по цеху относились ко мне так: ну, Плотников устроился, снимает своих друзей-кинозвёзд, гонорары получает, а мы тут пашем, снимаем пашню и озимые. «Пожалуйста, – говорил я, – вас никто не заставляет снимать урожаи зерновых, но вы должны понимать, что тогда вы лишитесь гарантированной зарплаты, бюллетеней, казённой аппаратуры и государственных квартир».
Я-то на это всё зарабатывал сам и 60 лет не был в отпуске, хотя мог пойти в любой день. Я жил по Евтушенко: «Жить независимо – включает и независимо тонуть». Потом мне рассказали, как фоторедактор одной из крупнейших газет, едучи в электричке, сказал: «Что вы все носитесь с этим Плотниковым? Вон Петербургский появился – не хуже вашего Плотникова снимает». Я, надо признать, был доволен.
На меня из-за этого псевдонима смотрели, как на городского сумасшедшего: 1972 год, вокруг сплошной ЦК КПСС, и тут про какой-то Петербург нам рассказывают. Но я настаивал в интервью, что буду носить псевдоним до тех пор, пока мой город не откажется от воровской кликухи. Это всё в печать не выходило, но меня и не закладывали.

Любовь, Тышкевич и Кобзон
– Валерий, вы снимали самых красивых женщин СССР и России…
– Да-да, и вся страна, естественно, считала, что Плотников если снимает эту красавицу, то понятно, что не просто так снял, а шуры-муры. Но этого не было. Хотя, конечно, какое-то количество...
– Да ладно, что уж. Вам и заграничную Беату Тышкевич приписывают.
– О, ну тогда это была сенсация, конечно. Бесштанный студент, а у него роман с богиней, и они этого не скрывают. Спустя много лет Беата рассказала как-то об этом в интервью, и моя дочь, школьница ещё, прибегает, помню, и выпаливает: «Папочка, у тебя был роман с Тышкевич?!» Я очень вырос тогда в её глазах.
Вокруг Беаты многие ходили кругами и подбивали клинья. Но у нас действительно был потрясающий роман и настоящая любовь. Помню, меня выгоняют из её гостиницы. А это зима, мороз. И Беата уходит со мной – в знак протеста и чтобы не оставить меня одного мыкаться по морозному Петербургу.

Нас приютила одна моя подруга, у которой был только что построенный и ещё не сданный кооператив – холодный, без горячей воды и без отопления. И мы с Беатой нагреваем там чайники с водой, чтобы не сдохнуть от холода, Беата укутывает меня своей шалью – и так какое-то время мы и жили среди стылой русской зимы. Я до сих пор удивляюсь, как она могла полюбить меня. И тем не менее это был расхожий стереотип: если я снял кого-то – значит, я...
– ...и в постель затащил?
– Нет, никогда мне не нужно было никого тащить. Все случалось само. Но тем немногим составом, который я, как ты говоришь, «затащил», я могу гордиться. Кстати, недавно я выпустил альбом «Есть женщины в русских селеньях», и часть красавиц там имеет ко мне отношение. Можно, разглядывая, пытаться угадать, кто именно.
– А знаменитых советских мужчин вы снимали вообще всех – от Барышникова до Кобзона.
– А вот Кобзона я как раз не снимал! Мне это было противопоказано. Я не люблю советскую власть с самого её начала, и все эти её певцы и воспеватели меня никогда не вдохновляли. Хотя, правду сказать, многие из них в этой согбенной в три погибели позе были вполне органичны. Потому что это была действительно их власть – власть рабочих и крестьян. Я не думаю, что они себя преодолевали, воспевая и благодаря эту власть. Много тогда было и безвкусных людей, и безвкусных певцов. «Губы не прячь и глаза не отвёртывай», – пели они. Сдохнуть можно, а они пели, и ничего, нормально.
– А с кем из героев ваших фотографий вы особенно дружили?
– Два человека, которых я боготворил, это Серёжа Соловьёв, конечно, и Андрон. С Андроном дружить – это было счастье. Он был мне как старший брат. Мне было с ним легко, потому что он не матерился, не напивался, рядом с ним не надо было тянуться и стараться соответствовать.
Однажды я ему помог. Как отлично звучит: «помог Андрону»! Он тогда только-только сдал свою «Асю Клячину». У Никиты есть, конечно, прекрасные фильмы – и «Родня», и «Неоконченная пьеса», но этот фильм Андрона – великий. Надо сказать, что Андрон не шёл ни на какие компромиссы в творчестве, хотя его просили то и это поправить, то и сё переделать. Но Андрон ничего не переделывает, и мы начинаем снимать «Дворянское гнездо». И тут на «Мосфильме» Андрону припомнили: ты же ещё не внёс все наши правки в предыдущий фильм, вот сделаешь, тогда продолжишь снимать «Дворянское гнездо».
Иными словами, у Андрона проблемы, и серьёзные. А у меня по соседству с мастерской помещалась газета, как я её называл, «АнтиСоветская» культура», орган, прости господи, ЦК КПСС! И вот они просто из хорошего отношения ко мне печатают мой фоторепортаж со съёмок «Дворянского гнезда». На «Мосфильме» чешут репу: ЦК КПСС – это не хухры-мухры – откуда ветер подул, в какую им сторону поворачиваться? Тут же все претензии сняли. Так что и «Дворянское гнездо» сняли, и «Асю Клячину» не изуродовали.
Правда, потом я ушёл от Андрона, и он мне этого не простил. Хотя если перечислить, от кого я ушёл... И от Тарковского с «Соляриса» ушёл, и от Андрона с «Романса о влюблённых» ушёл, и от Никиты тоже. «Жалкий фотографишка, он позволяет себе уходить от целого Никиты Михалкова!» Мало того, я не согласился работать с самим Урусевским, приглашавшим меня главным оператором на картину «Пой песню, поэт...» Сценарий был – божечки мои.
Петрович и фонарик
– Вы, кажется, очень строгий критик. Вам это не мешало в работе и в жизни?
– Когда друзья меня после премьеры где-нибудь в Доме кино встречали и спрашивали: «Валера, ну как?» – я всегда отвечал: «Ты хочешь, чтобы я правду сказал?» – «Не-не-не, молчи». Но мне же безумно везло на людей! Ко мне действительно хорошо относились. Даже когда был раздел Таганки, ко мне равноуважительно относилась и та, и другая её часть. Хотя сам-то я очень переживал. Во-первых, я с самого начала знал, что Любимов не прав. Но он тут меня троллил – это была наша такая «семейная» присказка: «Плотников, – говорил Юрий Петрович, – помолчи, за умного сойдёшь».
– «Семейная»?
– Да. Это история о том, как я месяца полтора работал Любимовым на Таганке.
– Как это?
– А вот так! Были такие обстоятельства, из-за которых Юрию Петровичу нужно было по вечерам, как раз когда в театре идёт спектакль, отлучаться из театра. Так вот я в это время и работал Любимовым. Юрий Петрович имел привычку стоять в конце прохода в зрительном зале и в темноте мигать фонариком – чтобы актёры не расслаблялись. И весь театр, разумеется, знал, что, когда там в темноте мигает фонарик – значит, Петрович в театре, значит, не моги халтурить и расслабляться.
А фонариком надо было не просто мигать, Петрович это делал в нужных местах. И я эти нужные места знал. И поэтому, когда в зале гас свет, Петрович отдавал мне этот фонарик и смывался. А я мигал. К тому времени, когда свет включался, он успевал возвращаться, брал у меня фонарик и стоял там как ни в чем не бывало. Недавно, спустя столько лет, я спросил у Вени Смехова, знали ли актёры, что в темноте с фонариком стоит не Юрий Петрович? А он: «Да ладно! Не заливай! Не верю, ты шутишь».
– Валерий, вы можете назвать одну самую любимую из всех своих фотографий?
– Не могу, жена обидится. А вообще самые любимые фотографии – это те, что не требуют подписи. У меня такие фотографии есть. Они сами по себе значительные, и люди на них значительны. Их немного, всего 12 или 13. Когда я думаю о жизни, я понимаю: да, наверное, я хотел бы и мог снимать только такие фотографии. Но на что бы я жил? У меня же семья, дети, две квартиры и дачи. Это я к тому, что предъявляю всем претензии – Серёже Соловьёву, Андрону Кончаловскому. А сам? Мог бы, понимаешь, быть большим фотографом, да не успел. Сам не знаю, шучу ли я.