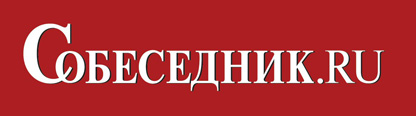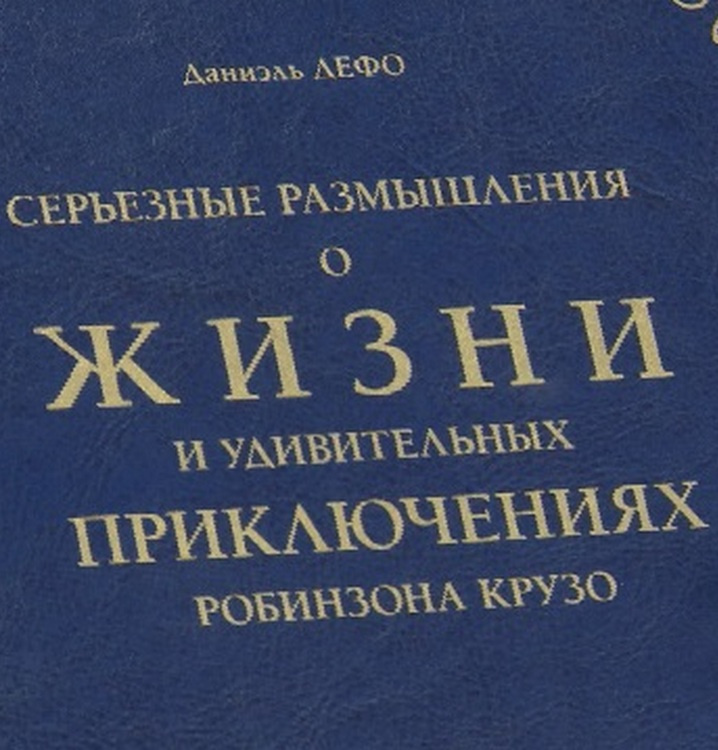Алексей Поляринов: Мы до сих пор не можем изжить имперскость
В интервью «Собеседнику» писатель рассказал о том, как изменилась литература в 2022-м и почему прежней жизни больше нет и не будет

Алексей Поляринов – автор нашумевших бестселлеров «Центр тяжести» и «Риф», финалист «Большой книги» и премии «НОС», переводчик текстов Дэвида Фостера Уоллеса, Чарли Кауфмана и Квентина Тарантино.
Даты
1986 – 27 декабря родился в Калужской области
2008 – окончил Новочеркасскую мелиоративную академию по специальности «инженер-гидротехник»
2019 – стал лауреатом премии «НОС» за роман «Центр тяжести»
2021 – объявлен финалистом «Большой книги» за роман «Риф»
2022 – вышел сборник эссе «Ночная смена»
Государство как секта
– В июне вышел документальный фильм Андрея Лошака «Разрыв связи» о том, как близкие люди не могут найти общий язык. А ты высказался об этом намного раньше – в романе «Центр тяжести». Ты говорил, что начал писать в терапевтических целях, чтобы избавиться от духоты 2014-го, когда тебе хотелось выстроить «капсулы здравого смысла» вокруг близких людей.
– Главная задача пропаганды – убедить всех несогласных в том, что они – одиноки, а большинство – монолитно. Вся вторая часть романа посвящена ощущению полного одиночества в стране, которая катится куда-то не туда. В тех, кто ощущает эту тяжесть и нужду создавать капсулу здравого смысла вокруг родственников, я хочу вселить уверенность, что они не одиноки. Нас много.
– Владимира Сорокина часто называют главным провидцем в современной литературе. А ты ловил себя на мысли, что многое в своём романе предсказал?
– Ретроспективное выстраивание картинки – это конечно же самообман. Ты просто описываешь какую-то болячку в обществе, а потом из неё вырастает, говоря словами Достоевского, нарыв. И все такие: «Ого! Он знал!» На самом деле это просто совпало. Когда я писал, что герой эмигрирует и закрываются все СМИ, я не предугадал грядущие события, просто экстраполировал. Я никогда не думал, что это случится со мной, что окажусь вне России. Это была доведённая до абсурда фантазия.
– В другом твоём романе – «Риф» – забывание травм прошлого срастается с сектантской философией, где от адептов культа требуют утратить память и отрезать себя от близких. Строка оттуда звучит невероятно актуально: «Мы окружены врагами, весь мир против нас, мы – носители истины, поэтому нас не любят...»
– Действительно, российская верхушка обладает всеми признаками секты: противопоставление себя всему миру, доказательство от обратного, то есть, когда их критикуют, они воспринимают это как доказательство своей правоты и избранности, а не повод для того, чтобы задуматься. Подавляются любые попытки рефлексии. Лоялисты из кожи вон лезут, чтобы доказать верность лидеру. Это абсолютно сектантская логика.
Перечисление новых табу займёт часов восемь
– А как тебе инициатива ГРАД (группа расследования антироссийской деятельности в сфере культуры) Захара Прилепина? Ургант предложил её переименовать в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.
– Главная проблема людей с подобными инициативами в том, что им совершенно отказало не только чувство вкуса, но и чувство иронии. Они совершенно не понимают, что такое постмодернизм, что такое сарказм и вообще что такое художественное произведение.
А цензура у нас уже давно. Тот же закон про ЛГБТ действует с 2013 года, просто сейчас все закручивается до абсурда. Единственная причина, почему литература худо-бедно существовала до 2022 года – это то, что бешеный принтер, принимающий законы, не умел читать. Запреты касались кино и театра, потому что это массовые искусства, а литература находилась ниже ватерлинии, ниже радаров. Кому интересны 20–30 тысяч читателей, когда кино смотрят миллионы?
Я надеюсь, что можно будет и дальше что-то публиковать под грифом 18+. Всё-таки пока только в одном магазине убрали Глуховского, Акунина. Кстати, ещё один пример самоцензуры, совершенно убогий, когда тебя ещё не пришли бить, а ты уже сам себя превентивно избил. На самом деле будет страшно, если мы сами себя начнём по рукам бить. Когда приняли закон о фейках, мы все стали с ужасом, чувствуя стыд, затирать свои посты про 24 февраля. И вот это запугивание, конечно, гораздо страшнее…

– Какие у нас ещё табуированные темы в искусстве?
– Если отвечать на этот вопрос – это будет 8 часов перечисления всего на свете. Поскольку наша власть оседлала нарратив традиционных ценностей, то всё, что не попадает в это прокрустово ложе, либо объявляется экстремизмом, либо замалчивается. И будет замалчиваться всё сильнее и сильнее.
Литература после 24 февраля
– Ты рассказывал, что американская литература чётко делится на два периода: до 11 сентября и после 11 сентября. Есть много романов о том, как в США пережили это сквозь литературу, а у нас до сих пор нет литературы о Беслане, «Норд-Осте» и школьных шутингах.
– Вакуум в литературе нулевых довольно красноречив с сегодняшней дистанции. Гэбэшная структура проникла всюду, Министерство обороны не должно считать себя вправе проверять художественные произведения и фильтровать информацию в культурном поле. Это квазисоветская система, в которой кино – отросток пропаганды.
Сейчас невозможно на большом экране показать то, что действительно болит. Травмы становятся огромной фигурой умолчания. Единственная картина про теракт на Дубровке – это «Конференция» Ивана И. Твердовского, где героиня хочет провести вечер памяти по жертвам «Норд-Оста», а ей говорят, что нельзя делать вечер памяти, будет конференция. Хорошо, что таким фильмам хотя бы давали возможность выйти в прокат.
Но, я думаю, после 24 февраля такая литература появится. Если системе удалось подавить рефлексию на тему взрывов домов, захвата школ, то от этого мы не сможем отвернуться. Рвануло так, что невозможно притвориться, что этого не было. Если кто-то в искусстве проигнорирует эти события, на таких авторов будут смотреть косо.
– Замалчивание травм неудобного прошлого и память – это главные твои темы. В новом романе тоже об этом?
– Да, конечно. Я полтора года пишу новый роман. Конечно, его перекосило после 24 февраля, и он будет совершенно иным. Эти события застали меня в поездке в Пятигорск, потому что у меня там происходит действие. Изначально я писал про замалчивание, про то, что люди живут рядом с трупами, практически ходят по ним и не видят их. Но история пополнилась новыми смыслами о том, что люди не видят масштаб нынешней трагедии.
Женщинам выделялось местечко в углу
– В своей лекции про колониальную и постколониальную литературу ты рассказывал про персонажей Салмана Рушди, которые застряли в межкультурном лимбе – они не могут ни вернуться на родину, ни стать своими в чужой стране. Это то, что предстоит сейчас испытать русским в эмиграции?
– Да, им предстоит деколонизация самих себя и новая самоидентификация. Мне кажется, наша проблема в том, что мы чувствовали себя центром планеты. Даже если мы утверждали, что мы не имперцы, нам казалось, что мы живём где-то в центре, а остальные – это спутники, которые вокруг нас вращаются.
Сейчас нас выбило со всех орбит. Я читал рукописи, которые будут выходить у моих друзей в ближайшие полгода. Это очень странно сейчас читать, там все ещё другие проблемы. Мне кажется, в ближайшие годы появятся книги с болезненным осознанием себя осколком бывшей империи, со сведением счетов с прошлым собой, с ощущением того, что тебя выбили с орбиты и ты теперь Плутон. Нас разжаловали из планет, вычеркнули из большого мирового нарратива, теперь мы болтаемся где-то на краю.
Это будет ключевой темой русскоязычной литературы, мы будем писать о потерявших всякие ориентиры людях, которые пытаются нащупать хоть какую-то почву. Увы, найдутся те, кто схватится за ресентимент и былое величие, но я надеюсь, что нарративом будут править не они.

– Правда ли, что наша литература вся насквозь имперская?
– Да, конечно. Она – мужская, написана дворянами. Даже когда написана босяками, потом эти босяки стали новым дворянством. В школьной программе представлено мало женщин, им выделялось местечко в углу.
Мы до сих пор эту имперскость не можем изжить. Это видно по стенаниям про отмену русской культуры. Люди настолько находятся внутри этой нелепой матрицы иерархии и влияния на мир, что несут бедных Толстого и Достоевского, как хоругви. Это тоже признак некой дремучести.
Поэтому да, наша литература долгое время была имперской и колониальной. Будем смотреть, куда её занесёт дальше.
– Для грядущего переиздания «Центра тяжести» ты решил переписать финал. Ты говорил, что в русской литературе вообще проблема с финалами. Толстой в этом плане исключение? Он сначала придумал, что Анна Каренина бросится под поезд, а потом всё остальное.
– У Толстого роман идей, там кольцевая структура и сюжет не столь важны. После того как Анна Каренина покончила с собой, роман длится ещё 80 страниц. Это тоже довольно плохая концовка. Толстой был страшно недоволен, когда издатель опубликовал версию, где Анна Каренина просто погибает, и всё. Лев Николаевич хотел в послесловии высказать свои мысли про политику, про войну и про все, что его волновало на тот момент. Это же буквально роман-газета.
«Хорошая концовка» – это весьма условный концепт. Когда я дописывал «Риф» и «Центр тяжести», мне казалось, что в обоих романах нормальные концовки. Сейчас я уже в этом не уверен. Может быть, даже грамотно закольцованные структуры – это не так уже хорошо. У Пелевина начало романов зеркалится с последней строкой. Но часто это выглядит настолько искусственным и не по-настоящему, что ты предпочёл бы даже те нудноватые 80 страниц в «Анне Карениной».
Про фотошоп в 1937 году
– Ты сейчас живёшь в Грузии. Почему ты уехал из России?
– Я не мог в принципе функционировать как человеческое существо после февраля, мне было психологически тяжело. Только здесь я смог собраться с мыслями и писать. Недавно мой знакомый, который остался в Москве, написал грустный текст о том, как за последние шесть месяцев он себя покалечил как автора. Теперь он пишет строчку – и тут же думает, что ему за это будет. Мне кажется, это абсолютно губительное состояние для любого автора.
– А разве писатели не перемалывают все трагедии и боль в литературу?
– Недавно от кого-то слышал, что наше поколение получило травму, которую будет теперь прорабатывать 50 лет. Но сейчас точно не время думать про будущий рассвет литературы.
– А нет ли опасности скатиться в романтизацию прошлого? Ведь искусство про тяжёлые моменты истории – это не для всех.
– Совершенно верно. Один из моих любимых примеров – картина «Новая Москва» Юрия Пименова. На ней изображены женщина в кабриолете и восхитительно красивый пейзаж. И подпись: 1937 год. Так же и сериал «Очень странные дела» создаёт симулякр 80-х в США, а «Оттепель» Тодоровского – симулякр 60-х в СССР. В современном кино люди живут в лофтах, пьют по утрам свежевыжатый апельсиновый сок. Это открытка.

– То есть для тебя главная составляющая искусства – это боль?
– Наверное, цель искусства – наносить на культурную карту болевые точки времени. Есть разница в том, как ты эту боль доносишь. Есть авторы, которые всё сглаживают, считая, что таким образом боль облегчают. Есть идеальный случай, когда ты добиваешься некоего баланса: с одной стороны, показываешь боль, с другой – тут же пытаешься как-то её отрефлексировать.
Есть случаи, когда авторы, как Алексей Балабанов, просто этой болью шарашат по голове. У него есть «Брат», в котором много правды, и есть «Брат 2», который максимально лакирован. Национальный вопрос, который в первой части поднимался в хорошем контексте, в продолжении становится таким «э-ге-гей, мы русские, мы за правду!»
Как писатели живут в эмиграции
– Как профессиональный переводчик, можешь ли ты написать роман на английском?
– Нет, я только в одну сторону работаю. Если придётся переучиваться, чтобы писать на английском, для меня это будет трагедия. Условно говоря, если мой словарный запас на русском – это 20 тысяч слов, то на английском – это 2–3 тысячи. Это совершенно разные уровни. Да и опыт работы с русским словом у меня 15 лет, а на английском – ноль.
– А что ты думаешь об инициативе Зеленского про отмену шенгенских виз всем россиянам?
– Это эмоциональное высказывание, сейчас это обсуждается в Евросоюзе, но я думаю, что это чисто технически невозможно. Есть книга историка Евгении Лёзиной «ХX век: проработка прошлого». Там рассказывается про денацификацию в Германии, когда союзники пытались зачистить бывших нацистов. Не убить их, а уволить с волчьим билетом со всех должностей. Задача стояла хотя бы 10% оставить, чтобы система продолжала функционировать. Люди стали подделывать информацию и смягчать статистику, поскольку невозможно было наскрести даже эти 10%.
Я думаю, с нашими эмигрантами будет похожая ситуация. Системы Евросоюза захлебнутся от попыток разобраться в каждом конкретном случае. Ну не могут они всех просто запечатать в вагоны и вывезти. Однако я допускаю, что какие-то решения по отдельным гражданам будут приняты и кого-то возможно вышлют.
– А как в Грузии сейчас воспринимается русский язык?
– Для Грузии события 2008-го стали болевой точкой. Когда мы собираемся в компании, рано или поздно кто-то вспоминает, как русские танки были в 20 км от Тбилиси, как все ждали массовой эвакуации и нападения России. Такое просто так не забывается. А так по умолчанию грузины невероятно доброжелательные и гостеприимные. На русском языке многие не говорят, но не потому, что как-то плохо относятся к нашим мигрантам. Новое поколение взяло курс на евроинтеграцию, все учат английский.