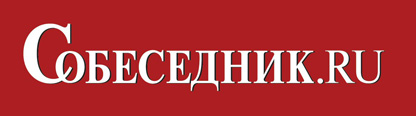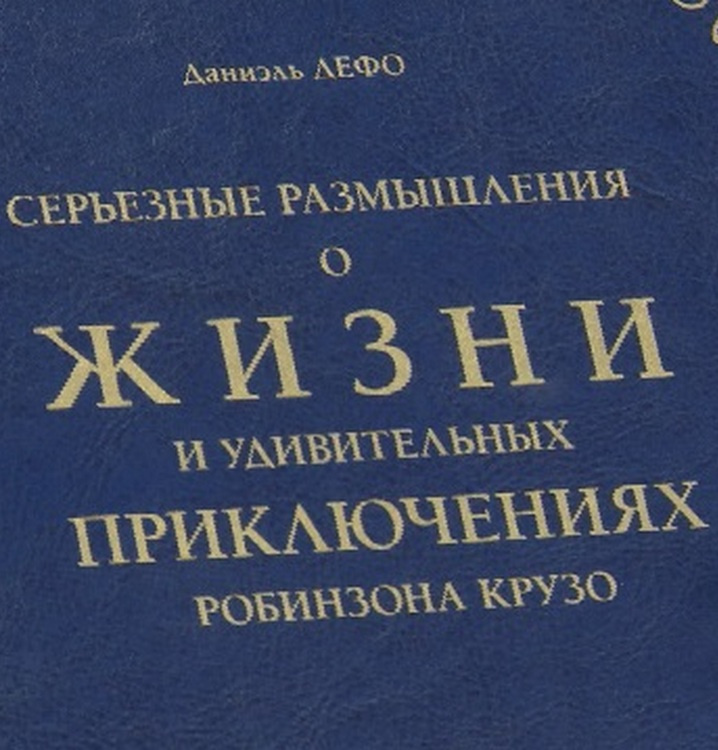Юлиан Семёнов, придумавший Штирлица
Он был человеком модерна, вставшим под знамёна архаики

Получилось так, что главное влияние на наш сегодняшний день оказали писатели, которых литературная критика 1970-х всерьёз не оценивала. Цену им знали многие, в том числе массовый читатель, сметавший их книги с прилавков, переплетавший публикации из журналов и обсуждавший на кухнях. Они работали по разные стороны баррикад, но снобы их не различали, а между тем судьбы России будущего определялись именно в массовой культуре. Этими авторами были, с одной стороны, братья Стругацкие, с другой – Юлиан Семёнов.
Мы покажем здесь, что они друг на друга влияли и даже друг другом подпитывались. У них были общие друзья – например Андрей Тарковский, который занял Семёнова в эпизодической роли в фантастическом «Солярисе» и снял по Стругацким демонстративно нефантастического «Сталкера».

Скажу больше: главную проблему 1970-х – самого интересного, противоречивого и насыщенного периода советской истории – Стругацкие и Семёнов видели чётко и понимали одинаково. Только решали они её с разных сторон: условно говоря, Стругацкие работали на Абалкина, а Семёнов – на КОМКОН-2. Или – чтобы уравновесить пример из «Жука в муравейнике» примером из «Семнадцати мгновений весны» – Стругацкие работали на Юстаса, а Семёнов – на Алекса.
Времена сейчас такие, что, с одной стороны, все стало видно и наглядно – в том числе то, о чем все эти авторы предупреждали. Поэтому писать об этой ситуации мне легко – доказательства не требуются, они, так сказать, торчат. Но поскольку прошлое ещё не прошло окончательно и ежедневно принимает новые запретительные законы, я не всё могу назвать прямым текстом. Писать приходится иносказательно, как фантасты и приключенцы 1970-х. Поэтому читать вам трудно – я прибегаю к тем симпатическим чернилам, которыми в семидесятые годы писали все, от Аксёнова до Трифонова.
Ничего, товарищи, привыкайте напрягать ум – цензура, само собой, упразднится, но вот 1970-е с их интенсивной умственной работой у нас в некотором смысле впереди. С этого уровня мы сорвались в 1990-е, теперь нам предстоит на него вскарабкаться и пойти дальше, доигрывая партию с того момента, в котором 1991-й смел с доски фигуры. Тогда же умер Аркадий Стругацкий и слег Юлиан Семёнов, ушедший в 1993-м. Дальше, как говорится, сами.
Биография
Биография у Семёнова была яркая внешне и скрытая в главном: именно бесконечные переезды и приключения не столько выявляли, сколько скрывали его внутреннюю эволюцию, о которой нам приходится судить исключительно по текстам. Иногда кажется, что и сам он боялся заглядывать в себя и всей этой бешеной деятельностью – журналистской, а отчасти и политической – заслонялся от собственных догадок. Впрочем, его попытки сочинять городскую психологическую прозу – скажем, повесть «Дунечка и Никита» – показывают, что на этом поле ему нечего было ловить даже по меркам второго ряда, он здесь был и творчески, и по-человечески беспомощен, что отразилось в его внутренних монологах, например в «Пресс-центре». А в политике он понимал и хроники сочинять умел.
Он родился 8 октября 1931-го в семье ответственного секретаря «Известий», близкого товарища Бухарина Семена Ляндреса. Арест Бухарина Ляндрес благополучно пережил, но в 1952-м его взяли – он был тогда одним из руководителей Издательства иностранной литературы, должность по временам борьбы с космополитизмом расстрельная. Ему дали восемь лет и в заключении буквально сломали – он вышел хоть и в самом начале оттепели, весной 1954-го, но со сломанным позвоночником и частичным параличом. Смог, однако, вернуться к работе и много сделал для публикации репрессированных или замолчанных гениев, прежде всего Булгакова. Его сын во время публикации «Мастера и Маргариты» был членом редколлегии этого журнала, а инициатором самой публикации был Константин Симонов, на которого Семёнов во многом ориентировался.
А в 1952-м, после ареста отца, студент ближневосточного факультета Московского института востоковедения Юлиан Ляндрес был исключён с последнего курса и из комсомола. Правда, после смерти отца его восстановили. Что особенно к нему располагает – сын не только никогда не отрекался от отца, но, с детства увлекаясь борьбой и боксом, незамедлительно бил в морду любого, кто плохо о нём говорил. (Боксом он зарабатывал после исключения из вуза – участвовал в подпольных платных боях, о которых рассказывал неохотно; в одном из таких боёв ему сломали нос.) Но травма, пережитая тогда, мучила его всю жизнь: он быстро понял, как легко в СССР в одночасье лишиться всего и как мало зависит при этом от тебя лично. Фамилию «Семёнов» он взял не потому, что боялся отцовской репутации, а наоборот – потому, что в эпоху реабилитанса не желал ассоциироваться с одним из наиболее известных издателей и литературоведов, так что мотивы были самые благородные.

Тогда же, когда он превратился в зачумлённого, от него отвернулась – по родительской команде – тогдашняя подруга, и, по воспоминаниям дочери, Семёнов никогда не мог понять, почему она сделала это так легко. Видимо, что-то в природе советского человека ему тогда открылось, и никаких иллюзий насчёт советского характера, чрезвычайно пластичного, он уже не питал. Правда, ближайшие друзья – например однокурсник Евгений Примаков – остались ему верны. Примаков Семёнова любил, написал трогательное предисловие к книге Ольги Семёновой об отце, восхищался его упорством, сравнивал с бульдозером. Вспоминал, что сам непозволительно долго был сталинистом – а Юлиан отчаянно ругал вождя уже в 1952-м (потом, заметим, нарисовал весьма привлекательный его образ в цикле о разведчике Исаеве).
Семёнов освоил пушту, сразу после института стал его преподавать, параллельно получал второе образование на истфаке МГУ, а уже с 1955-го пошёл в журналистику. Это стало его основной и любимой профессией, потому что писал он быстро, памятью обладал фотографической, вообще считал журналистику идеальной писательской школой (поскольку кумиром его был Хемингуэй) – темпу его жизни эта работа соответствовала лучше всего.
Этот темп и темперамент замечательно описал Юрий Трифонов (тоже сын репрессированного, наверняка испытывавший к Семёнову, поверх всех различий, некую поколенческую близость). Трифонову психологический реализм как раз давался:
«Поразительный персонаж наш Базиль! В свои тридцать семь лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей, его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой, он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге».
Если это и не о Семёнове лично, то типаж уловлен верно. Такие были, и шли они чаще всего в журналисты-международники. Это их глазами смотрел на мир советский человек: в «Клубе кинопутешественников» таким человеком был Сенкевич, в журналистике – политические обозреватели от Зорина до Боровика, в литературе – Семёнов. (В поэзии ближе других к нему Евтушенко, тоже панически боявшийся заглянуть в себя, отсюда «Мне страшно по ночам».)
Подозреваю, что у Симонова была та же проблема – он боялся заглянуть в себя, а потому слишком много глядел по сторонам. (Семёнов и стихи писал, но, в отличие от Симонова, неудачно.) Потенциально человек вроде Симонова и Семёнова мог бы стать крупным государственным деятелем, что отмечают все писавшие о них, но этой возможности им не дали, и они всегда подспудно чувствовали, что на входе в российское ли, советское ли государство установлен некий фильтр.
Это не было связано с происхождением (которое у Симонова подкачало по линии дворянской, а у Семёнова – по еврейской с отцовской стороны, но мало ли было государственных людей, которым это не помешало). Это было скорей интеллектуальной проблемой: оба были слишком умны, чтобы их терпели в этом качестве, а может быть, недостаточно кровожадны. Быстроумые, памятливые, изобретательные – люди этой породы отсеиваются на ближних подступах, хотя в журналистской и писательской иерархии забираются подчас довольно высоко.
Они находят себе место (понимаю, что сейчас многие подумают, что я желал бы такой судьбы, – нет, Боже упаси) в качестве связующего звена между интеллигенцией и властью. В качестве трансляторов властной воли вниз и интеллигентских запросов наверх. Они создают для этой власти человеческое лицо – это оно сейчас не востребовано, а в вегетарианские шестидесятые и семидесятые очень даже приветствовалось. Про Симонова была эпиграмма Коржавина – «быть либералом среди черносотенцев» (и в конце сороковых Симонов в самом деле вёл себя не очень хорошо, а в пятидесятые демонстративно оставался сталинистом). Про Семёнова ходили упорные слухи, что он был штатным сотрудником Конторы Глубокого Бурения.
Контора
Конечно, никаким штатным сотрудником он не был, отлично понимая, что такой статус накладывал бы слишком серьёзные ограничения. Он любил розыгрыши, и когда его полушутливо спрашивали, не полковник ли он, отвечал страшным шёпотом: «Поднимай выше!» Но к Андропову, старавшемуся окружить себя интеллектуалами-шестидесятниками (Бурлацкий, Бовин…), был вхож и выполнял, случалось, прямые задания вроде романа «ТАСС уполномочен заявить».
Можно размазывать проблему, говоря, что без сотрудничества с Конторой нельзя было обеспечить себе регулярный выезд за границу, а потому «все они замараны» – и про Евтушенко ходили упорные, подпитываемые завистниками слухи, что он прямо там зарплату получает, – но случай Семёнова был особенный: он был вроде Виктора Луи (или, как мне кажется, Владимира Познера) – вполне легальный связной между Западом и нами, профессионально вербующий «там» симпатизантов СССР. Иногда такие люди осуществляют не только культурные, но отчасти и курьерские функции. Чуть раньше то же самое, ничуть не скрываясь, делал Эренбург. Эренбург дружил с Андре Жидом, что чуть не стоило жизни им обоим, а Семёнов, допустим, с бароном Фальц-Фейном, большим другом Советского Союза.
Но и это естественно – любой, без исключений, советский политический журналист был и агентом влияния на Западе, и вербовал таких же агентов, и, не являясь штатным сотрудником разведки, обречён был на контакты с людьми «оттуда» (с посольскими уж точно, а среди посольских процент конторских был традиционно высок). Важней иное: Семёнов был посредником между Конторой и творческой интеллигенцией. Он многим помогал, симпатизировал в том числе и диссидентам (думаю, Тарковский позвал его в картину и дал роль со словами не в последнюю очередь потому, что надеялся на его протекцию; и проблем в прокате у «Соляриса» не было, хотя у всех других фильмов Тарковского были).
А вот теперь – внимание, вопрос. Почему человек такого таланта, интеллекта, бесспорных литературных способностей (о которых ниже) сознательно искал контактов и, пусть неформального, сотрудничества с Конторой Глубокого Бурения – самым жестоким и влиятельным инструментом советской власти? Впрочем, возможно, сама советская власть была не более чем временным орудием этого тайного ордена меченосцев. Эльдар Рязанов как-то высказал мне гипотезу – а он в русской истории хорошо понимал, – что главным органом власти в России всегда, во все времена была тайная полиция, Третье отделение, «Слово и дело» – иными словами, опричнина, как бы она ни называлась; властителей она назначает сама. Дарю желающим идею такого конспирологического романа, потому что в самом же деле интересно: в России есть одна, прописью, организация, которая контролирует все, сама неподконтрольна никому и после любых революций немедленно восстанавливает своё положение. И с этой организацией Семёнов сотрудничал – почему?
Возможно, потому, что он отлично понимал: именно она здесь всё решает. После катастрофы 1952-го с отцом он понял, что вторично пережить эту травму он попросту не может себе позволить. А возможно, понял, что гарантировать ему свободу перемещений (без которой он, убеждённый космополит, себя не мыслил) и относительную возможность реализации может здесь именно и только эта Контора.

А возможно, они там сами сообразили, что надо к нему присмотреться. Инициатива обычно исходит не от творцов, а именно от Конторы. И когда они сделали ему своё знаменитое предложение, которое ни к чему его не обязывало (поначалу всегда так кажется), он не смог отказаться. И они со своей стороны – это уж у них не отнять, дьявол вообще надёжный покровитель до поры до времени – были очень честными партнёрами: дали ему возможность объездить весь мир, не только горящий Вьетнам, где он работал героически, не только Ближний Восток, но и Штаты, и Латинскую Америку, и Европу, где он безуспешно искал Янтарную комнату. Они открыли ему архивы, где он работал в высшей степени профессионально. Они дали ему возможность написать свои исторические хроники ХХ века, составившие цикл «Альтернатива». Они знакомили его с деталями своей работы, которые его как писателя сильно интересовали. В общем, для деятельного и любознательного работоспособного человека, каким он, несомненно, был, в Советском Союзе это была идеальная крыша, дававшая возможность прикасаться к мировым струнам.
А что это был дьявол… ну, что ж такого. Покровительство дьявола вообще было главной фаустианской темой, темой ХХ века, и тут мы переходим к главному.
Штирлиц
Семёнов был писателем крепкого второго ряда, и создать Штирлица – героя, перешедшего в анекдоты – ему посчастливилось именно потому, что миф Штирлица неочевидным, тайным образом совпадал с главным мифом ХХ века: с мифом о Фаусте.
Эта история постепенно вытеснила из мейнстрима предыдущий миф – христианский. После того, что человечество сделало с его сыном, Бог от человечества отвернулся. Он относился к нему теперь, примерно как начальник лагеря, в котором есть талантливые заключённые. Для этих талантливых заключённых были сделаны шарашки, им выделялись влиятельные покровители, остальные интереса не представляли. В фаустианской литературе три главных героя: Мастер, он же Фауст; Воланд, он же Мефистофель; и Маргарита, она же Гретхен.
Мефистофель – довольно симпатичный герой, симпатичный в том числе и Богу; функций у него две – разведывательная и покровительственная. Так зародился всемирный миф о разведчике, который докладывает небесному Алексу о здешних делах. Попутно он покровительствует (или, точней, интересуется) двум категориям населения: священникам, потому что они заняты главным делом, и профессионалам, потому что они умеют делать всякие хитрые штуки. Фауст – профессионал. В него влюбляется чистая девушка, которая в этой истории непременно гибнет.
Так главными героями советской литературы стали разведчики: Воланд, роман о котором Семёнов прочитал одним из первых, потому что его отец занимался наследием Булгакова, а сам он работал в редколлегии журнала «Москва» в том самом 1966-м; Румата Эсторский, который в Арканаре спасает Будаха и дружит с отцом Кабани; и Штирлиц, который спасает пастора, покровительствует профессорам Рунге и Плейшнеру.
В ХХ веке считалось – если не всеми, то многими, – что дружить надо с дьяволом. В фильме «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (Фердинанд Люс – автопортрет, ибо ЛЮС означает «Ляндрес Юлиан Семёнович») звучала песенка на стихи Окуджавы, пел её Кобзон: «Чванливы черти, дьявол зол, бездарен Бог – ему неможется...». Окуджава, может, так и не думал. Но многие так думали, потому что никакой Бог не стал бы терпеть (и тем более лично планировать) то, что творилось. Он самоустранился, мало ли какие у него ещё есть дела. А разгребать всё это досталось Мефистофелю, Воланду, Штирлицу, который не может спасти всех, но покровительствует тем немногим, кто заслуживает интереса.
Семёнов хотел быть Штирлицем. Не автопортретным журналистом Степановым, который действует в большинстве его политических романов и бытовых повестей, а разведчиком и покровителем. Вроде муровского полковника Костенко, который дружит с писателями и режиссёрами (в частности, с кружком Левона Кочаряна, в котором познакомились Высоцкий, Тарковский и Семёнов). Не по его метафизическим возможностям было претендовать на ангельские или тем более божественные роли, но он хотел быть полезным дьяволом, то есть тем самым, кто творит добро, желая зла.
И он создал миф о разведчике, который оказался самой востребованной позднесоветской сказкой. Что он внимательно читал Стругацких – обнаружить очень легко, потому что диалоги Штирлица с пастором почти копируют теологические дискуссии Руматы с Будахом, а знаменитый разговор Штирлица с Мюллером – опять-таки точная копия разговора Руматы с орлом нашим доном Рэба. И Стругацкие, и Семёнов внимательно читали Ильфа и Петрова (у Семёнова так просто есть прямые цитаты), и потому их благородные разведчики имеют черты авантюриста Бендера, так же цинично шутят, так же неуязвимы для женских чар и сами покоряют все сердца (Бендер своим обаянием явно повлиял и на булгаковского Воланда, о чем написана подробная книга Майи Каганской «Мастер Гамбс и Маргарита»)
Владимир Путин стал президентом России не в последнюю очередь потому, что миф о героическом разведчике пленил нацию – и не только благодаря фильму Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Роман Семёнова (1968 г.) был популярен и без фильма, хотя в анекдоты Штирлиц шагнул именно с экрана. Стилистическая близость этих анекдотов к романам Ильфа и Петрова (подмеченная Андреем Шемякиным) подтверждает нашу гипотезу: Штирлиц – это всего лишь Бендер, которому не было больше места в СССР. Вот он и попал в свою желанную Латинскую Америку (в романной трилогии «Экспансия»), где стал инструктором по горным лыжам.

Конечно, при создании образа Штирлица не обошлось без влияния Джеймса Бонда, но Бонд ведь персонаж без психологии. А Штирлиц – как раз и носитель главной морали ХХ века: мир стал игралищем ужасных сил, и в такую эпоху интеллектуал может лишь служить разведчиком одной из них. Как Сомерсет Моэм и его герой Эшенден. Как Грэм Грин. Как Семёнов и его Штирлиц, чьи рассуждения выдают в нём настоящего глубокого мыслителя с авантюристической жилкой – но куда в СССР деваться такому мыслителю? Только в разведку.
Стругацкие подошли к делу с принципиально иной стороны. В романе «Жук в муравейнике», который стал их ключевым высказыванием в 1970-е, они доказывали: любое общество, где властвует тайная полиция, разведка или контрразведка, обречено убивать непонятное, то есть в конечном итоге воевать с будущим. Как только в Мире Полудня заводится КОМКОН-2 – все, пиши пропало, оно зачеркнуло собственную эволюцию. Потому что у всех спецслужб в мире одно, и только одно предназначение – выслеживать будущее, чтобы оно не наступило. Сохранять статус-кво. Стоять на службе у Гомеостатического Мироздания.
У интеллигенции всего мира совершенно иное назначение: приветствовать это будущее, служить его агентами. Именно поэтому Контора искала вовсе не агентов Запада, а агентов будущего; именно поэтому она и воевала с диссидентами, которые как раз и были истинными патриотами. Спецслужбы – охрана прошлого и в этом качестве обречены убивать: прошлое – вампир, оно может питаться только свежей кровью.
Почему Семёнов встал на сторону этого прошлого? Ну, вероятно, потому, что оно давало ему особый статус: в открытом мире, где каждый ездит куда хочет, такому Мефистофелю просто нечего делать. В мире открытых архивов и общедоступной информации грош цена его связям. А может – и это как раз было пророческой догадкой, – он понимал, что советская альтернатива Западу была интересной и перспективной для многих, просто нежизнеспособной (пока). У нас хоть и дыра, но в неё веет будущим, как писали в «Пикнике на обочине» те же Стругацкие. И потому надо стоять на страже этой альтернативы – не зря же свой четырёхтомник о Штирлице (ещё не были написаны постсоветские продолжения, где Штирлиц загремел в лагеря) Семёнов назвал именно «Альтернатива». Это не самый сильный роман в цикле, но ему нравилось слово – и понятие. Он был защитником советской альтернативы – мира хорошего дьявола, доброго Мефистофеля, остроумного Воланда. И погиб вместе с ней.
Что любопытно, большинство учеников Стругацких тоже предали их идеалы и заняли сегодня такую позицию, что Господи прости. Потому что и Стругацкие, и Семёнов первыми описали ситуацию, в которой человечество живёт последние сто лет, и сейчас эта ситуация с кровью и ужасом разрешается. Просто Стругацкие и Семёнов заняли в этом конфликте разные стороны, а конфликт-то они увидели первыми. Наверное, потому, что, помимо советского контекста, хорошо знали мировой.
Имя этой проблеме – фашизм.
Главное
Фашизм интересовал Семёнова с самого начала, с того 1941-го, когда мальчик с исключительной способностью к языкам отказался учить немецкий. Потом в 1945-м он с отцом посетил Германию, внимательно читал газеты, пытался понять, как великая европейская нация впала вот в такое. Тогда и сформировалось его мировоззрение, основой которого была мысль: единственной альтернативой фашизму является советское, и надо стоять на страже этого советского.
Интерес Семёнова к фашизму был глубоким, творческим, научным. Он был болен этой темой с отрочества. Он сумел встретиться с Отто Скорцени и взять у него интервью – хотя Скорцени никому интервью не давал; он искал в Латинской Америке Бормана и Мюллера – и был уверен, что Мюллер руководил операциями ЦРУ ещё и в 1970-е. Можно сказать, что Семёнов считал фашизм в любых его обличьях своей главной темой – и потому образы умных, даже обаятельных, как Шелленберг, и коварных, как Мюллер, немцев были так бесконечно популярны в СССР; плюс фашисты были очень хорошо одеты. Эта эстетика бессознательно захватывала СССР, и многие школьники в семидесятые, что отмечалось в рапортах той самой Конторы, играли именно в фашистов, составляли друг на друга характеристики типа «характер нордический, выдержанный»… Конечно, Советский Союз погубила не экранизация романа Семёнова, а иные пещерные инстинкты; но в фашизм он таки скатился – как раз после того, как все советское закончилось.
Фашизм – реакция архаики на модерн. Человечество на своём пути обречено неуклонно раздваиваться, делиться на активное, стремительно развивающееся меньшинство и медленно стагнирующее большинство. Фашизм зародился в огне Первой мировой, когда в топку войны было брошено первое поколение модернистов – насмешливых, рассудочных, несентиментальных людей с нелинейным мышлением. Предельным выражением модернизма в философии стал Фрейд, в искусстве – Пикассо, в литературе – Джойс, в кино – Чаплин, в науке – Эйнштейн. Ключевой проблемой модерна поэтому стало создание такого оружия, которое отменило бы войну, сделало её невозможной. Именно поэтому Штирлиц лично занимается проблемой физика Рунге и делает так, что Гитлер сверхоружия не получил.
Фашизм перехватил повестку модерна и сам стал делить людей на сверх- и недо- – по расовому, самому архаичному признаку. На его фоне советское было именно защитой модернизма, знаменем нового человечества. На этом пути были, как представлялось многим, тупики и ошибки, но главное направление было верным. Сегодня в фашизме обвиняют любого, кто «делит людей на сорта». Но люди объективно делятся на тех, кому нравится работать и творить, и тех, кому нравится воевать и тормозить; на тех, кто завидует всем, и тех, кто не завидует никому; на тех, кто доносит, и тех, на кого доносят. Это добровольное решение, никто не заставляет. Но чесать всех людей под одну гребёнку – тоже не выход. Двадцатый век, сказал Сергей Аверинцев, скомпрометировал ответы, но не снял вопросов. Условно говоря, мир поделился на диссидентов и спецслужбы; диссиденты, то есть инакомыслящие, хотят мыслить. Спецслужбы, любимое оружие дьявола, хотят им это запретить. То, что происходит сейчас между Россией и Украиной – последняя стадия этого конфликта. Теперь модерн обречён на окончательную победу. Да, это будет неуютное общество, но правда и свобода не бывают уютны.
Трагедия Семёнова в том, что по всем приметам – талант, быстроумие, универсальность способностей, физическая мощь, отсутствие грубой материальной корысти (моральное самолюбование было, но материального уж точно не было) – он был человеком модерна, вставшим под знамёна архаики. В этом был ужас его внутреннего противоречия, его «отчаяние», как называется предпоследний роман о Штирлице. И это, а не чей-то заговор, его погубило так рано. Ходили слухи – их часто повторяет его окружение, в том числе ближайшее, – что Семёнов кому-то мешал и слишком много знал, а потому его инсульт в мае 1989-го, случившийся почти одновременно с крахом СССР, был результатом чьих-то интриг, а то и отравления.
Но у Семёнова была хроническая гипертония, знаменитая титаническая комплекция, апоплексическое сложение, он курил по полторы пачки в день и в последние годы не вылезал из депрессии, чувствуя, что вместе со страной шатается и его исключительный статус. У него были все предпосылки для такого диагноза плюс полное неумение систематически за собой следить (вот ещё) – и ужасно несправедливо и обидно, что человек такой интеллектуальной и физической активности, спортсмен, путешественник, кладезь всевозможных сведений последние три года жизни был прикован к участку в крымской Мухолатке или к московской квартире, а общался только с родными и преимущественно односложно. Как тут не сказать: «О, что за гордый ум сражён...» – как Офелия простонала о Гамлете; но ум-то как раз не был сражён. В 1991-м, в дни путча, он прохрипел на вопрос дочери, что теперь будет: «Три дня...». И не ошибся.
Характер
Так и тянет написать: нордический, выдержанный. Но характер у него был скорее мягкий, как у Степанова в романах: перед женщинами не то чтобы робел, но благоговел. Образ сильной женщины – спортсменки, журналистки, радистки Кэт – у него везде, и мужчина всегда, как у Хемингуэя, ей проигрывает. А мужчина вообще всегда проигрывает, потому что он последователен и прям, а жизнь хитра и извилиста; мужчина всегда защищает архаику, а жизнь – она за будущее. Поэтому сейчас, в последней отсроченной битве мировых войн, архаика все равно обречена со всеми своими воинственными погремушками и бубнами.
Он был женат на приёмной дочери Сергея Михалкова, Кате, развёлся с ней, переживал этот развод довольно мучительно. Страстно любил дочерей Дарью и Ольгу. Никогда не учил их жизни, только советовал – осторожно и уважительно. Вообще, судя по всем воспоминаниям, был человек хороший, любил покровительствовать молодым дарованиям, вплоть до Ники Турбиной, которую приметил одним из первых, и очень любил своих читателей. Оно и понятно – он был для них светом в окошке. Он был любимцем советской средней интеллигенции, интересовавшейся политикой и военной историей. Сейчас эти люди в большинстве своём вытеснены самой жизнью в ту же нишу, куда угодило большинство постсоветских фантастов, тоже помешанных на военной истории и реконструкции. Они любят обсуждать конспирологию, всемирные заговоры, во всем у них всегда виновато ЦРУ. Это их Семёнов научил.
А что ещё делать людям из бывшего СССР? Интеллигенция-то действительно была довольно средняя. Ледяной воздух свободы выдержали не все. Мастеру удобно под крылом Воланда. А разделение человечества на две ветки для многих обидно, и люди стараются убить будущее. Сосуществовать с ним они не способны. Они – во главе со спецслужбами – хватают его везде, где могут дотянуться. Особенно если это будущее нагло живёт по соседству. Нет сомнений – ну, почти нет, – что Семёнов приветствовал бы возвращение Крыма. Там же была его Мухолатка, весьма скромное по нынешним временам поместье. На позицию многих его соратников, создававших вместе с ним «Совершенно секретно», сегодня смотреть попросту страшно.
Перспективу СССР и соответственно любимых читателей Семёнов не мог не понимать. Я однажды в разговоре (их было у нас не так много, но бывали) спросил Аллу Пугачёву, портрет которой рисовала Даша Семёнова в отрочестве: какой он был?
– Дрался часто, – подумав, ответила Пугачёва. – Как напьётся, так дерётся. Совершенно зверски. Потом ничего не помнил.
– А пил часто?
– Часто. Как задумается, так напьётся. А задумывался он в последние годы очень часто, и мрачно. Вообще несчастный был человек.
И ещё, подумав:
– Хороший.
Жестокая вещь история, а биология того мрачней. И горе Юстасу, который не может избавиться от своего Алекса. Этот Алекс, отец всякой лжи, никогда не преследует благих целей. Благо – вроде советских семидесятых, и в частности фильма «Семнадцать мгновений весны» – получается у него случайно.
И хорошо, что главным героем 21 века стал не Мастер и не Штирлиц, а Гарри Поттер. О создательнице которого мы ещё поговорим.